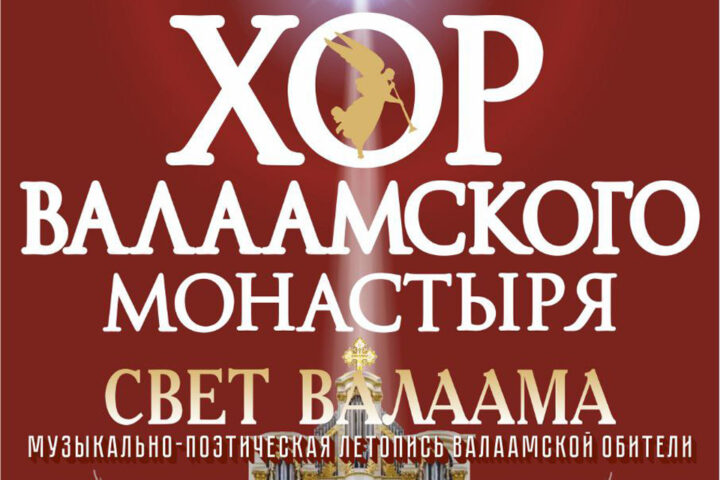Пушкин кожаный и сахарный
21 сентября 2010 | Газета «Кузбасс»
Для моего поколения Пушкин, разумеется, «наше всё». Я знаю, например, одну даму в звании подполковника милиции, ярую пушкинистку-любительницу: она всерьез ревнует классика к Наталье Гончаровой. Но меня в последнее время занимает вопрос, до какой степени Пушкин понятен молодежи. Ничто ведь не вечно, язык стремительно меняется; когда-нибудь и Александр Сергеевич покажется таким же архаичным, как Михайло Ломоносов. К тому же многие сведущие люди утверждают, что для нынешних школьников все едино: что Юрий Гагарин, что Емельян Пугачев, что Иван Грозный, что Иосиф Ужасный – дела давно минувших дней, преданья старины глубокой.
Актер Кемеровской драмы Александр Измайлов, иногда выступающий и как постановщик, сделал моноспектакль «Летя в пыли на почтовых…», представляющий собою комментарий к «Евгению Онегину». Измайлов здесь и режиссер, и инсценировщик, и автор музыкального и сценического оформления, и единственный лицедей. Источники инсценировки понятны: комментарий Юрия Лотмана (тот самый, из которого выросли «Беседы о русской культуре»); комментарий Владимира Набокова; плюс несколько историй из популярного сборника Курганова и Охотина «Русский литературный анекдот» (восходящих к мемуарам Кукольника, «Старой записной книжке» Вяземского и пр.). Ничего вроде бы нового, но ведь говорили же древние: известное известно немногим.
Спектакль предназначен для показа в школах, но иногда играется и в Звездном зале, под самой крышей облдрамтеатра. Оформление соответственно минималистское: макет кареты, на окошко которой проецируются дорожные виды; пара выворотных ширм с кусочками интерьеров провинциальной усадьбы, ресторации, парадной залы; пара вешалок с цветными фраками и жилетами во вкусе эпохи (подростков заставят всё это примерять, сначала их придется волочить на сцену почти насильно, но потом они примутся кривляться не без удовольствия). Разумеется, пара дуэльных пистолетов, куда же без них. Плюс велосипед, на котором автор-исполнитель порой разъезжает – ловко, как первый ученик на уроках верховой езды.
В спектакле, кстати говоря, находится время и для рассказа о режиме дня и расписании уроков в Царскосельском лицее. За кадром и в кадре мелькают также Иван Крылов и Гаврила Державин. Но по большей части Измайлов разъясняет, что такое страсбургский пирог и как было устроено ретирадное место, в просторечии нужник, какой оглушительный проступок совершила Татьяна, сочинив свое знаменитое письмо, и случайно или намеренно был убит на дуэли несчастный графоман Ленский. Урок перемежается анекдотами, среди которых есть достаточно соленые; это тоже необходимо, чтобы показать, что Пушкин с Онегиным были не музейные экспонаты, а живые молодые люди, с тем же самым кругом интересов, что и у теперешних. Увы, до юной публики порой не сразу доходят изящные каламбуры двухсотлетней давности. Сам Александр Сергеевич сочувственно-иронически изобразил старого аристократа, который острил «отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно». Ясно, что нынешнему племени юмор пушкинской эпохи невнятен в еще большей степени. Тем не менее зал по большей части слушает хорошо и реагирует живо. При том что спектакль не перегружен интерактивными игрищами, продолжается больше часа, и серьезного в нем куда больше, чем развлекательного.
В половине ноября 1828 года Пушкин писал Дельвигу из Малинников, что на Псковщине, об одном общем знакомом: «Петр Маркович здесь повеселел и уморительно мил. На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться. Но Петр Маркович их всех взбуторажил*, он к ним прибежал: дети! дети! мать вас обманывает — не ешьте черносливу; поезжайте с нею. Там будет Пушкин — он весь сахарный, а зад его яблочный, его разрежут, и всем вам будет по кусочку — дети разревелись: не хотим черносливу, хотим Пушкина. Нечего делать — их повезли, и они сбежались ко мне, облизываясь, — но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили».
В спектакле Измайлова с отменным вкусом перемешаны компоненты: немножко Пушкина сахарного, немножко яблочного, но явственно проглядывает и кожаный фон классических переплетов. Никаких вроде бы изысков по постановочной или исполнительской части, но все вместе образует вполне гармоничное целое.
Это, кстати говоря, уже второй кемеровский театральный «Онегин» за последние годы: предыдущего поставил Дмитрий Вихрецкий в областном театре кукол и, слышно, собирается возобновить. Все это утешительно. Пушкин, басни Крылова, Муха-цокотуха, Наташа Ростова, Раскольников со старушкой – все это и есть азбука нашего мироощущения, тот самый культурный код, который обеспечивает народное единство и связь поколений.
Юрий ЮДИН.
* «взбуторажил»: так у Пушкина!
 Областная газета
Областная газета