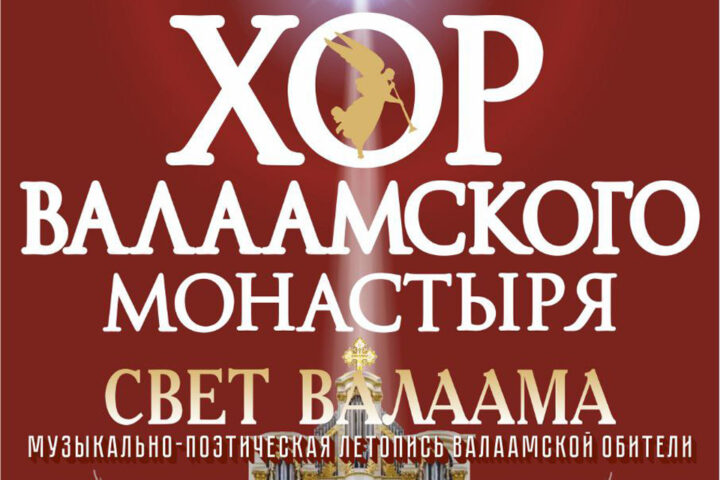Музыкальная вечность
 Николай Алексеевич Капишников, учитель литературы из поселка Мундыбаш, –один из трех Героев Кузбасса, кому это звание было присуждено посмертно. Случай уникальный. Но и личность Николая Капишникова была уникальной. И удивителен след, что оставлен им в нашей жизни. Сейчас даже трудно представить, что маленький школьный оркестр народных инструментов, созданный учителем литературы (не музыки, подчеркиваю, не специалистом в области дирижирования!) в далеком и голодном 1947 году, сумел достичь таких высот. С ним почитали за честь сотрудничать солисты Москвы и Санкт-Петербурга, он выступал на сцене Московской консерватории, гастролировал за рубежом. Записи оркестра Капишникова хранятся во всесоюзном фонде. Более того: несмотря на то, что инициатор и вдохновитель оркестра ушел из жизни десять лет назад, его детище продолжает жить. Это каков, стало быть, запас прочности был в него вложен?
Николай Алексеевич Капишников, учитель литературы из поселка Мундыбаш, –один из трех Героев Кузбасса, кому это звание было присуждено посмертно. Случай уникальный. Но и личность Николая Капишникова была уникальной. И удивителен след, что оставлен им в нашей жизни. Сейчас даже трудно представить, что маленький школьный оркестр народных инструментов, созданный учителем литературы (не музыки, подчеркиваю, не специалистом в области дирижирования!) в далеком и голодном 1947 году, сумел достичь таких высот. С ним почитали за честь сотрудничать солисты Москвы и Санкт-Петербурга, он выступал на сцене Московской консерватории, гастролировал за рубежом. Записи оркестра Капишникова хранятся во всесоюзном фонде. Более того: несмотря на то, что инициатор и вдохновитель оркестра ушел из жизни десять лет назад, его детище продолжает жить. Это каков, стало быть, запас прочности был в него вложен? Рассказывает Борис Вавилихин, в недавнем прошлом – главный инженер службы пути Кемеровской железной дороги:
— Я музыку люблю с детства, окончил в свое время музыкальную школу, играл на домре… И вот на каком-то юбилее в Киселевске увидел на книжном базаре книжечку Капишникова «Музыкальный момент». Взял – и не смог оторваться, пока не прочитал до конца. Эта книга меня перевернула. Несмотря на то, что я уже был взрослым, состоявшимся человеком, при должности, при жизненном опыте, а вот… Я бы сказал, что автор написал ее по-чеховски коротко и, как Глинка, музыкально.
Из книжки я узнал, что каждый вторник и пятницу в оркестре – репетиции, и 28 ноября 1986 года (на всю жизнь дату запомнил!) я поехал в Мундыбаш. Мы проговорили с Николаем Алексеевичем до полвторого ночи, и он стал моим другом на всю жизнь.
Сразу и не определишь, чем он так пленял людей. Простота, мудрость, правдивость – да, но ведь все это и в других хороших людях встречается. А Николай Алексеевич как-то незаметно умел сделать так, что людям, находившимся рядом с ним, хотелось быть лучше. Да-да, вот это – главное. Он индуктировал лучшее, что есть в каждом человеке.
Я, например, после встречи с ним чувствовал себя так, будто у меня глаза раскрылись. Другим человеком стал!
Примеры? Пожалуйста. Я перестал повышать голос на подчиненных. Я стал как-то иначе на людей смотреть, даже на самых отпетых. Пьяниц, например, всегда презирал, но после того случая я даже алкоголика-прогульщика не смог, как следовало бы, отматерить…
Я стал возить людей в Мундыбаш – благо была такая возможность, я был тогда депутатом горсовета, и два раза в год, пользуясь своим служебным положением, устраивал прицепной вагон до Мундыбаша, в котором на концерты оркестра, на встречи с ребятами — оркестрантами возил лучшие творческие коллективы города. Они в очередь записывались на эти поездки!
Было – и взрослых людей возил к Капишникову. Помню, собрал главных инженеров со всех наших 22 предприятий – и в Мундыбаш, к Николаю Алексеевичу. Правда, из 22 только трое восприняли эту встречу так, как мне хотелось.
— А как вам хотелось?
— Ну, чтобы после беседы с ним молча шли, о жизни думали. А они там какую-то возню затеяли, анекдоты начали травить…
Кстати, сам Николай Алексеевич никогда не претендовал на роль «святого гуру». Он ценил озорство и юмор, так свойственные детству и юности. И о своих «художествах», и о выходках своих учеников писал без занудного морализаторства. Наоборот! В комизме ситуации умел разглядеть неожиданные уроки. Вспоминал, например, как, подыгрывая на балалайке, пародировал работу своего благодетеля (отца школьного приятеля, его семья взяла сироту Колю Капишникова в свой дом). «Витькин отец, Дмитрий Прокопьевич – суровый, строгий – что-то толок в ступе (не то соль, не то черемуху). Я стал ему подыгрывать на балалайке. Чтобы плясовая точно легла на удары пестика. Он быстрее – я ускоряю темп. Он медлит – и я перехожу на «анданте». Только бы не прыснуть!» Но обиженный Бутурлакин приемыша не выгнал. Поступил мудро: посадил сына Витьку работать под балалайку.
После литфака Томского педагогического Капишников приехал учительствовать в Мундыбаш. Отсюда же ушел на фронт. Сюда и вернулся в 1945-м.
Он начинал, как все великие педагоги, как Сухомлинский и Макаренко. Ему хотелось отогреть голодных, рано повзрослевших детей, вернуть им радость жизни, чувство красоты и огромности мира. Отсюда – сумасшедшие проекты, вроде собственной школьной мельницы, которые, впрочем, очень быстро стали приносить плоды. Но… За эту мельницу его чуть не посадили. Когда на книжке скопилось уже почти 90 тысяч рублей («хватит и на оркестр, и на новые тапочки для исполнителей, и на ковровые дорожки, и на пальмы для школы, вызвал меня прокурор Погребной: «Да вам за это статья и десять лет срока!»). Что ж. Мельницу ликвидировали, ковровые дорожки сдали в магазин, как и пионерские барабаны. А за тапочки с Капишникова еще долго высчитывали из зарплаты…
Вспоминает Александр Бублик, профессиональный дирижер, художественный руководитель оркестра народных инструментов, преподаватель Кемеровского музыкального училища, воспитанник Николая Алексеевича:
— Когда я только начинал играть в школьном оркестре, мы разучивали «Осеннюю песню» Чайковского. И что-то никак она не шла. Ну, не та это музыка, чтобы сразу за живое забирала. Меланхоличная, печальная…Без особой охоты ребята ее репетировали. И вдруг на одной из репетиций Николай Алексеевич Капишников встает и вроде бы ни с того ни с сего читает стихи: «О, этот юг! О, эта Ницца! О, как их блеск меня тревожит! Жизнь, как подстреленная птица, / Подняться хочет – и не может».
Ах, как все сразу стало понятно! «Осенняя песня» обрела какой-то совсем иной, глубоко человечный смысл…Это уже потом Тютчев, которого цитировал нам Николай Алексеевич, стал моим любимым поэтом. А тогда я был просто потрясен. Как были потрясены многие из моих товарищей».
Кстати, про эту «Осеннюю песню», которая надолго вошла в «золотой репертуар» мундыбашцев, оркестранты разных лет рассказывают по-разному. Сам Николай Алексеевич, например, вспоминает, как специалисты-музыковеды на каком-то из фестивалей ругали его за то, что он придает ей «слишком драматический характер».
«Но у нас, — пишет Капишников, — были свои причины для такого исполнения. Предыдущей осенью, в конце октября, разучивали мы это произведение. И вот видим, над поселком с тревожным криком летит запоздалая утка. И летит, бедняжка, на север. Люди на улицах останавливались, махали руками: поворачивай, мол, на юг. Было уже холодно. Эта картина и стала для нас ведущим образом «Осенней песни». Как видно, он никогда не тиражировал свои «педагогические приемы», каждый раз изобретая для новых поколений новые.
Воспитание тонких чувств невозможно словами. Это прививается умением почувствовать боль другого и совершить поступок, способный уменьшить эту боль. Таким поступком стал для оркестрантов сбор денег на покупку мотоколяски для библиотекаря Василия Кузнецова – любимца всей школы, страдающего тяжелой формой полиомиелита.
Главный вопрос, который мучал Капишникова: а как вы ему ее преподнесете? Он ведь навсегда будет чувствовать себя обязанным, будет зависеть от этого чувства. Так родилась идея ежегодного премирования. Совет оркестра выбирает самого достойного и вручает ему награду. Первым обладателем премии в виде инвалидной мотоколяски и стал Василий Кузнецов. Кстати, благодаря этой чудо-технике его прозвали Президентом. И родилась еще одна творческая игра – в ребячью республику, с Президентом, парламентом и послами (выросшими выпускниками мундыбашской школы, разъехавшимися по разным уголкам страны).
Между прочим, одним из таких послов (в Москве) стал Владимир Суродин, выпускник Высшей школы КГБ, вице-президент компании «Транстелеком». Интересно, что он стал не только профессиональным разведчиком, но и профессиональным писателем (недавно увидела свет его шестая книга – «Дороги. Встречи. Судьбы (воспоминания разведчика»). Так вот, он считает:
— Секрет долголетия оркестра – в уникальной личности Николая Алексеевича. Он – интеллигент в высшем смысле этого слова. Он умел создавать вокруг любого человека поле уважения к нему.
Сила его не в том, что он создал уникальный оркестр (хотя оркестр – да, уникальный), а в том, что он посеял и вырастил в людях, прошедших через его оркестр. Не случайно в выпуске Аники Кирьянова, например, из 19 человек 14 стали педагогами.
Кстати, музыкантов из нашего оркестра вышло не так и много. А вот игра в свою республику сохраняется и по сей день. Стоит приехать и кому-то из бывших оркестрантов сказать «я из оркестра Капишникова» — человек сделает для тебя все, что и самый близкий родственник не сделает.
Александр Бублик – один из немногих оркестрантов, что навсегда связал свою жизнь с музыкой. Он вспоминает:
— Как вся моя семья была против этого! Маме говорили: «Он же у тебя не совсем убогий, чтобы на балалайке всю жизнь играть!» И поступать в музыкальное училище, конечно бы, не позволили. Я уехал тайком. С благословения Николая Алексеевича и на его деньги.
Он всю судьбу мою, получается, определил.
Кстати, во времена Николая Алексеевича Капишникова в Мундыбаше работала малая филармония. 12 абонементных концертов в год – было в порядке вещей. И каких концертов!
— Помню, как к нам приезжала виолончелистка Наталья Гутман, только что ставшая лауреатом конкурса Чайковского, — рассказывает А.И. Бублик. – То есть мы вживую слушали тех же звезд, что и столичные жители!
Он умел сделать так, что простые деревенские ребятишки чувствовали себя не жителями захолустья, а обитателями и творцами большой, яркой, насыщенной жизни.
На Международной музыкальной конференции ИСМЕ, где специалисты 42 стран изучали опыт оркестра Капишникова, никто из зарубежных гостей не мог поверить, что игре на балалайке он выучился… самостоятельно. Никакого музыкального образования не имеет. Он и сам признавался, что «музыка сама по себе для нас не самое главное. Главное – с ее помощью закрепить в детях то лучшее, чем одарила их природа». Как-то высказал эту крамольную мысль композитору Кабалевскому, с которым оркестр был очень дружен. На что Кабалевский ответил: «Вот если бы для вас музыка была главной, то музыки-то как раз могло и не получиться. А когда главное – дети, то от этого выигрывает и музыка».
Меня, к слову, всегда интриговал этот факт: почему именно оркестр? Ведь были в мундыбашской школе и театр, и литературная студия (кстати, сам Капишников писал стихи). Но главным инструментом воспитания он выбрал оркестр. Почему?
Наверное, он интуитивно дошел тут до педагогического открытия, которое было «запатентовано» позже как «коммунарская методика». Суть ее – в создании напряженного коллективного творческого труда. «После репетиции оркестра легче решались трудные задачи по алгебре, проще делались домашние дела, охотнее писались сочинения», — вспоминают его ученики. Творчество сообща как стимул, как допинг высвобождало резервные силы организма.
…А в практических вопросах Николай Алексеевич был совершенно беспомощным. Никогда, например, не возился на огороде. Борис Вавилихин рассказывает: «Помню, я приеду, пойду что-нибудь помочь его жене Валентине Прокопьевне, грядку там вскопать или туалет поставить, он бежит к нам: «Да бросьте вы, не надо ничего этого, пойдемте лучше побеседуем». Хороший разговор ценил выше любых удобств».
Принято считать, что великие педагоги как-то по-особому любят детей. Мне кажется, Николай Алексеевич не делал возрастных различий между людьми. Во всяком случае, перечитывая недавно его книжку «Музыкальный момент», я зацепилась за фразу, достойную стать афоризмом: «Куда не допускаются дети, туда во многих случаях лучше не ходить и взрослым». Эту святую чистоту он сохранил в себе на всю жизнь.
 Областная газета
Областная газета